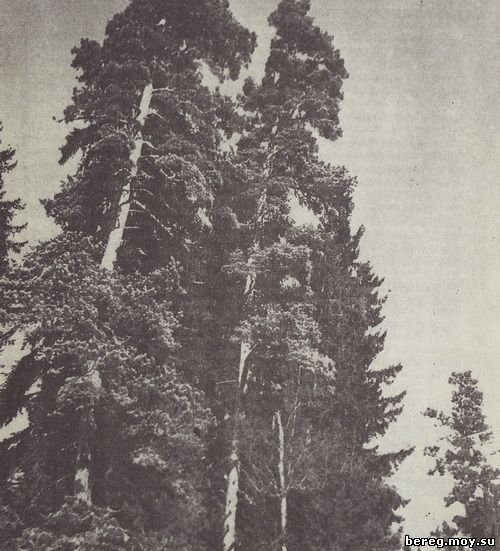
Варгасовский лес «Е» уцелел. Уцелела и сама Лесная дача. Но вернулся я в нее, уже когда поступил в аспирантуру. За советом я зашел к своему руководителю Владимиру Петровичу Тимофееву. Профессор жил в небольшом коттедже на краю Дачи. В десяти метрах от крыльца начинались молодые посадки. Владимир Петрович повел меня показать свое богатство.
Я увидел маленькие лиственницы, липки, сосенки и... ели.
- Сажаете ель?,- удивился я, вспомнив вырубку из-под елового леса, на которой состоялось наше первое лесное «крещение». - Но ведь ель может засохнуть? Вы же сами рассказывали, что раньше здесь ели почти не росли. А когда посадили, то она вся погибла от засухи...
Владимир Петрович улыбнулся:
- Все это верно. Но на то мы лесоводы, чтобы суметь вырастить ель там, где она усыхает.
- Это невозможно. Мы же не можем переделать климат!
- Климат, действительно, мы не сможем изменить. Но лес сам внутри себя создает свой, лесной климат. А от нас требуется только, чтобы мы построили такой лес, где бы климат для ели стал хорош. В таком лесу ель, может быть, и не станет усыхать.
Я сразу подметил, что профессор сказал «может быть». Он и не отрицал этого,
- Конечно, полную гарантию дать нельзя. Но все же за сто лет опытов в Лесной даче накопился хороший материал. Чему-то эти опыты нас научили. - Владимир Петрович взглянул на часы.- Есть у вас час свободного времени? Я покажу один интереснейший лес, который имеет отношение к нашему разговору. Хотя лес этот не еловый, а сосновый.
Я с удовольствием последовал за профессором, и вскоре мы остановились в сосняке, который мне показался удивительно знакомым.
- Уж не лес ли это Варгаса де Бедемара?
- Он самый. А вы откуда с ним знакомы?
Я рассказал, как мы путешествовали по Лесной даче до войны.
Владимир Петрович сказал, чтобы я хорошенько запомнил лес «Е», как он выглядит. Зрительная память у меня всегда была надежной. Я запомнил лес Варгаса, и мы пошли дальше. Пришли в другую часть леса, в квартал номер 6, и там увидели другой сосняк, который Владимир Петрович назвал лесом номер 10.
- Это тоже Варгасов лес?
- Нет. Этот лес назван именем другого лесовода, Турского. Только он выбрал не природный лес, а посадку.
Я взглянул на лес Турского. Деревья стояли стройными рядами. Другой разницы я не нашел. Может быть, эти деревья немного моложе? Ведь год рождения леса номер 10 - 1850, а леса «Е» - 1816.
- Какой же лес лучше? - спросил профессор.
- Оба хороши, - сказал я. - Но трудно сравнивать леса разного возраста. Даже невозможно.
Профессор кивнул:
- Это верно. Нельзя. Но мы можем уменьшить возраст леса Варгаса и сделать его таким же молодым, как лес Турского. Можно даже восстановить и те травы, которые в нем росли раньше, когда ему было столько же лет, сколько лесу Турского сейчас.
Я решил, что Владимир Петрович шутит, хотя говорил он серьезно, и попробовал ответить тоже шуткой. Но шутка получилась глупая.
- У вас есть машина времени?
- Есть. Ее сделал Турский.
Профессор зашагал в сторону конторы Лесной дачи. Войдя в свой кабинет, он добыл из шкафа несколько толстых старинных книг. Одна из них принадлежала перу самого Варгаса де Бедемара.
В этих книгах я увидел записи, которые вели лесоводы, измеряя деревья и травы в лесу год за годом в течение всей его жизни. Множество цифр посвящалось лесу «Е», лесу номер 10. Тут были и другие леса с диковинными названиями. Были даже леса «Ъ» и «Ь». Я подумал, что, наверное, столько набралось опытных лесов, что у лесоводов не хватило алфавита. Потому что более поздние лесоводы стали называть леса уже по номерам.
Теперь из книг нужно было взять нужные цифры и сравнить их друг с другом в одном и том же возрасте леса.
- Так какой же лес лучше, саженый или природный? - напомнил мне свой вопрос Владимир Петрович.
Я снова обратился к цифрам. Они запестрели перед глазами. Их было много - сотни, тысячи, миллионы. Все смешалось у меня в голове. Какой же лес лучше? Я не знал, что и сказать. Потом мелькнула мысль. Раз лес сажали, да ухаживали за ним, да пахали почву, да пололи травы, значит, саженый лес должен быть лучше.
- Конечно, саженый, - нарочито спокойно сказал я. - Там и деревья на равном расстоянии посажены. Каждому поровну места и пищи досталось...
Профессор склонился над цифрами:
- Давайте взглянем в этот отчет. Посмотрим, как вели себя лес «Е» и лес номер 10 до тридцати лет. Тут вы правы. В естественном лесу сохранилось тогда четыре с половиной тысячи деревьев, а в саженом - меньше двух тысяч. Зато деревья, эти две тысячи, были красавцы как на подбор и много толще природных. Теперь взглянем, что случилось после тридцати лет,- продолжал он, листая пожелтевшие страницы. - Густой природный лес стал редеть. Где было слишком густо, многие деревья засохли, другие отстали в росте. За счет этих начали бурно расти их соседи и превратились в могучих великанов. А как вел себя в это время саженый лес? В нем для всех деревьев было поровну света и пищи. Каждое росло и мешало соседям. В результате всем деревьям стало не хватать пищи, и рост их замедлился. Тут естественный лес догнал саженый и выровнялся с ним.
Я с удивлением всматривался в цифры, которые мне показывал профессор, и поражался его способности видеть за этими цифрами живой лес год за годом, в течение всей его жизни.
Оказалось, что лесоводы в прошлом подметили недочеты саженого леса и попытались вырубить часть деревьев, чтобы сделать его пореже. Но вырубка не спасла лес. Опоздали лет на двадцать.
В дальнейшем оба леса росли одинаково - и саженый и природный. Но тут пришла предвоенная засуха, та, что погубила ельники Подмосковья. К этому времени саженый лес оказался гуще природного. В нем накопилось больше деревьев слабого роста и меньше сильных, рослых. И тогда деревья в саженом лесу стали гибнуть одно за другим, а другие продолжали терять прирост.
Естественный лес обогнал своего соперника и вышел на первое место.
- А теперь вы меня спросите, для чего я все это рассказал,- обратился ко мне Владимир Петрович, закрывая книги. - Хотел, чтобы вы убедились, что значит густота, как она важна в лесу. Вы ведь меня спрашивали о ели? И для ели густота не меньше нужна. Редкие посадки ели в Москве сохли меньше, чем густые. Может быть, регулируя густоту, мы заставим ель и вообще не бояться засухи?
Мы вышли на крыльцо конторы. Теперь я с иным чувством смотрел на квадратики молодого леса, росшие окрест. Все эти лесочки были разной густоты. И, может быть, в одном из них кроется тайна несохнущего леса? Но почему же мне ни разу не пришло в голову понаблюдать за густотой леса?
- А вы поройтесь в памяти, - сказал Владимир Петрович.- Наверняка и в вашей практике найдется случай, когда густота леса сказалась на его судьбе.
Я стал думать и действительно вспомнил один случай, который произошел в кедровых лесах.



